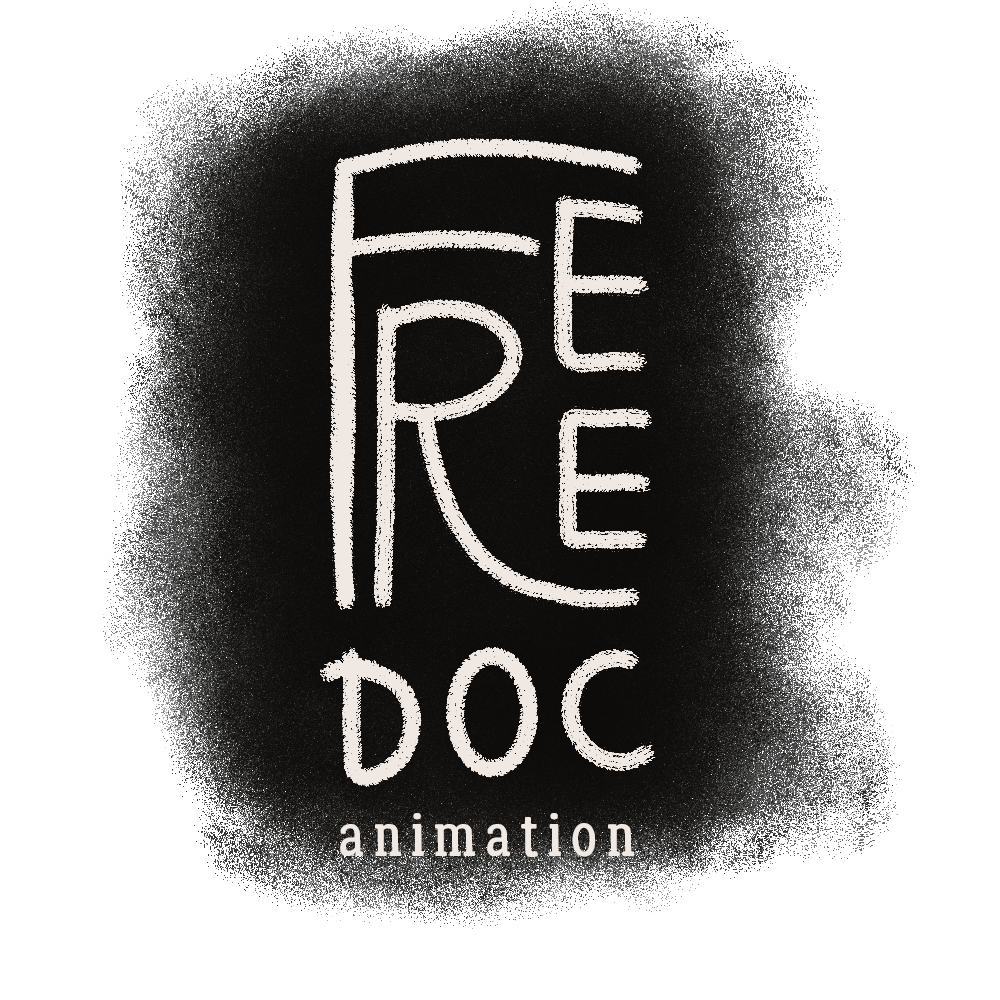Документальность, а точнее, засечка на временной линии - один из порогов вхождения, от которого можно раскрутить бо́льшую историю, но никогда не цель
Сбой во времени
Интервью с Ярославой Комиссаровой,
участницей лаборатории Дома Радио «Сдуй речь в пыль».
участницей лаборатории Дома Радио «Сдуй речь в пыль».
В начале 2025 года в Доме Радио прошла лаборатория видеопоэтических посвящений «Сдуй речь в пыль» (куратор Даша Чернова).
Ярослава создала экспериментальный документальный фильм «Елена», посвящённый Елене Гуро. Она соединила съёмки кладбища в Уусикиркко, где когда-то была похоронена поэтесса, и её текст «Лесные мысли» из книги «Небесные верблюжата», в котором, как кажется, много личного, дневникового.
Я поговорила с ней о документальности в её проектах, о том, как реальность прорастает в арт-объект.
Ярослава создала экспериментальный документальный фильм «Елена», посвящённый Елене Гуро. Она соединила съёмки кладбища в Уусикиркко, где когда-то была похоронена поэтесса, и её текст «Лесные мысли» из книги «Небесные верблюжата», в котором, как кажется, много личного, дневникового.
Я поговорила с ней о документальности в её проектах, о том, как реальность прорастает в арт-объект.
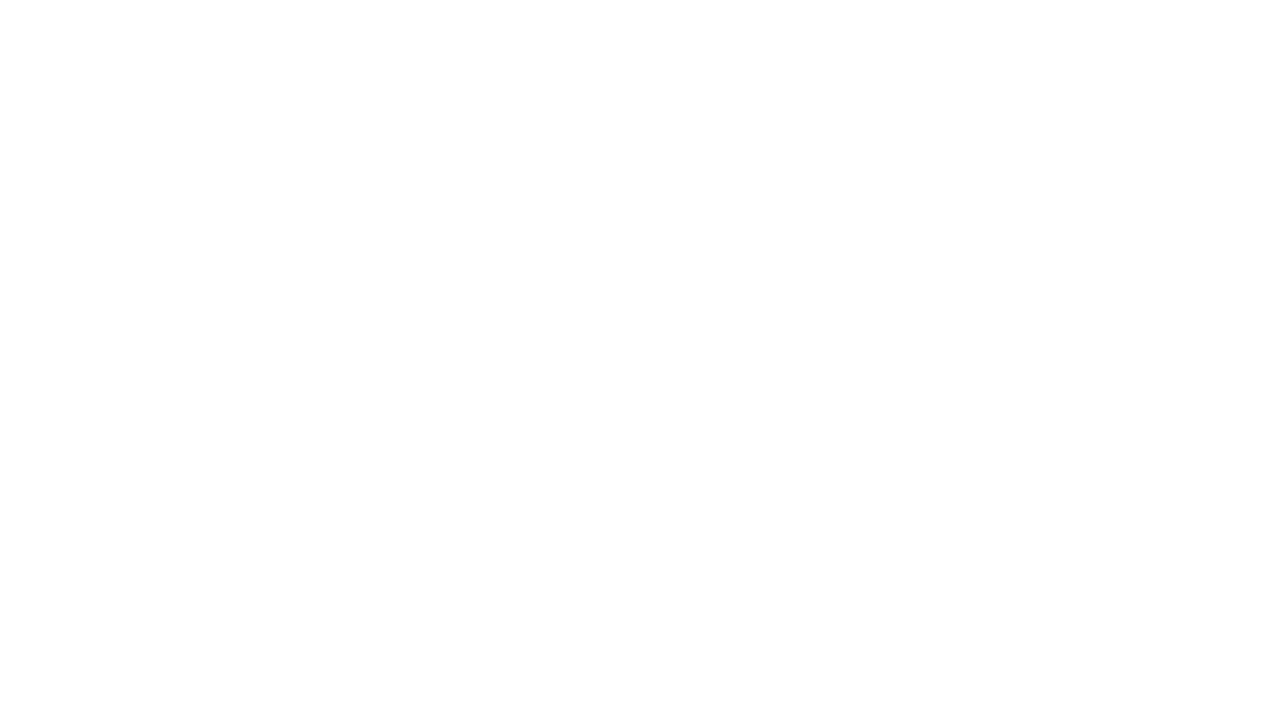
Кадр из фильма «Елена», автор Ярослава Комиссарова.
Как тебя представить?
Ярослава Комиссарова, художник.
Расскажи про экспедиции. Как началось? В качестве кого ты туда ездишь?
Кочевой (или путешествующий) образ жизни - часть моего детства и юности. А после окончания института я уже одна уехала из Петербурга на (почти) 6 лет. Художник-реставратор, волонтёр архитектурно-искусствоведческих экспедиций, иногда - этнографических. Эти перемещения сперва были выученной и привычной необходимостью, потом - «вторым образованием». А сегодня - одним из подходов в художественной работе.
Первым городом был Сергиев Посад. Год перед его большой реконструкцией и перепланировкой, 2013-й. Неухоженный, вязкий, он больше походил на рисунки Мавриной 60х., или рассказы Шмелева. Что, впрочем, очень было к лицу.
Лавра, вокруг которой и вырос в свое время город, - отдельный микрокосмос. Полузакрытый, но от того более выразительный.
Мы работали на храмовой живописи в неделю шесть дней, а седьмой - изучали окрестности. Такой ритм, окружение, разговоры/обряды, живая история, большое количество людей с разным характером и взглядами - все это занозило, обучало.
Я любила оставаться в перерывах в небольшом Надвратном храме. На верхнем ярусе лесов, под крышей, вела рабочие записи/схемы. Читала, под царапанье птичьих коготков по оцинкованному металлу. В Успенском, самом высоком, поднималась по лестницам в один из пяти куполов (на выбор, но больше любила Богородичный). Ложась на спину, рассматривала огромные, в два человеческих роста, лики.
Ярослава Комиссарова, художник.
Расскажи про экспедиции. Как началось? В качестве кого ты туда ездишь?
Кочевой (или путешествующий) образ жизни - часть моего детства и юности. А после окончания института я уже одна уехала из Петербурга на (почти) 6 лет. Художник-реставратор, волонтёр архитектурно-искусствоведческих экспедиций, иногда - этнографических. Эти перемещения сперва были выученной и привычной необходимостью, потом - «вторым образованием». А сегодня - одним из подходов в художественной работе.
Первым городом был Сергиев Посад. Год перед его большой реконструкцией и перепланировкой, 2013-й. Неухоженный, вязкий, он больше походил на рисунки Мавриной 60х., или рассказы Шмелева. Что, впрочем, очень было к лицу.
Лавра, вокруг которой и вырос в свое время город, - отдельный микрокосмос. Полузакрытый, но от того более выразительный.
Мы работали на храмовой живописи в неделю шесть дней, а седьмой - изучали окрестности. Такой ритм, окружение, разговоры/обряды, живая история, большое количество людей с разным характером и взглядами - все это занозило, обучало.
Я любила оставаться в перерывах в небольшом Надвратном храме. На верхнем ярусе лесов, под крышей, вела рабочие записи/схемы. Читала, под царапанье птичьих коготков по оцинкованному металлу. В Успенском, самом высоком, поднималась по лестницам в один из пяти куполов (на выбор, но больше любила Богородичный). Ложась на спину, рассматривала огромные, в два человеческих роста, лики.

фотография из архива Ярославы Комиссаровой
Я думаю, многим в начале пути важно понять, почему и на чем строится культурная система. И нам тот год дал это понимание, которое складывалось (помимо прочего) из простого участия и со-присутствия.
В твоих проектах не всегда документальная основа становится частью работы, а только толчком. «и вышел звирь» - место осталось, его история рассказана. «а на утро выпал снег» - нет, рассказ учительницы упоминается, но не приведен. Как ты определяешь для себя, когда документальность остается, а когда становится только толчком для создания объекта?
Документальность, а точнее, засечка на временной линии - один из порогов вхождения, от которого можно раскрутить бо́льшую историю, но никогда не цель. Вокруг взаимосвязанное полотно, где каждое малое действие (ну, например, приготовление завтрака), или большое (например, ксенофобия) раскладывается на атомы. Сперва личное, частное, потом круги расширяются на социальное, историческое.
Получается, документальность никуда не уходит. А один физический элемент (та же найденная в оставленном доме фотография) служит проводником к разным вопросам и задачам.
Документальность, а точнее, засечка на временной линии - один из порогов вхождения, от которого можно раскрутить бо́льшую историю, но никогда не цель. Вокруг взаимосвязанное полотно, где каждое малое действие (ну, например, приготовление завтрака), или большое (например, ксенофобия) раскладывается на атомы. Сперва личное, частное, потом круги расширяются на социальное, историческое.
Получается, документальность никуда не уходит. А один физический элемент (та же найденная в оставленном доме фотография) служит проводником к разным вопросам и задачам.
Если ты делаешь работу внутри какого-то пространства, это согласованные акции? Что с ними потом происходит?
Если в ландшафте или заброшенном объекте - то нет. Работа либо растворяется в пространстве, врастает в него. Либо демонтируется после фотофиксации. Это растворение долго было потребностью, а непредсказуемость конечного результата - живым интересом.
Изначально мне было важно посмотреть, какие есть возможности у художественного языка, как его оставить живым. А делегировать и считаться с местом работы, уметь с ним договариваться, разрешать неожиданные загвоздки - редкое удовольствие; такое, пожалуй, и впредь не хотелось бы терять.
После завершения больше не возвращаюсь. Иногда адрес далеко, но зачастую просто ни к чему.
Если в ландшафте или заброшенном объекте - то нет. Работа либо растворяется в пространстве, врастает в него. Либо демонтируется после фотофиксации. Это растворение долго было потребностью, а непредсказуемость конечного результата - живым интересом.
Изначально мне было важно посмотреть, какие есть возможности у художественного языка, как его оставить живым. А делегировать и считаться с местом работы, уметь с ним договариваться, разрешать неожиданные загвоздки - редкое удовольствие; такое, пожалуй, и впредь не хотелось бы терять.
После завершения больше не возвращаюсь. Иногда адрес далеко, но зачастую просто ни к чему.
Чем тебя привлекла лаборатория в Доме Радио? С чем ты туда шла?
Хотелось почувствовать материал, понять структуру. Дать себе возможность обучения, нового теоретического знания. И разговора. Мы же знаем с вами, что живое общение, проговоренное вслух (и, по возможности, оспоренное) мнение - большая ценность. Это делает результат более весомым, интересным, качественным.
Почему Гуро, что для тебя значит ее творчество, ее жизнь? Почему этот текст в итоге вошел в фильм?
Я не сразу обратилась к ней, но искала для работы именно поэтессу, женский взгляд. Больше смотрела дневники, воспоминания человека, хотелось увидеть и понять его.
Аккуратность к миру, не иерархичность и неравнодушие, - то, что определило выбор. Взгляд Гуро вовнутрь, понимание большой взаимосвязанной экосистемы жизни. Тихий упрямый бунт (что намного весомее, честнее лозунгов, как нам показало время). Её горение.
К этому подобрала отрывок из дневника. Возможно, не очень привычный, но полно раскрывающий её.
Хотелось почувствовать материал, понять структуру. Дать себе возможность обучения, нового теоретического знания. И разговора. Мы же знаем с вами, что живое общение, проговоренное вслух (и, по возможности, оспоренное) мнение - большая ценность. Это делает результат более весомым, интересным, качественным.
Почему Гуро, что для тебя значит ее творчество, ее жизнь? Почему этот текст в итоге вошел в фильм?
Я не сразу обратилась к ней, но искала для работы именно поэтессу, женский взгляд. Больше смотрела дневники, воспоминания человека, хотелось увидеть и понять его.
Аккуратность к миру, не иерархичность и неравнодушие, - то, что определило выбор. Взгляд Гуро вовнутрь, понимание большой взаимосвязанной экосистемы жизни. Тихий упрямый бунт (что намного весомее, честнее лозунгов, как нам показало время). Её горение.
К этому подобрала отрывок из дневника. Возможно, не очень привычный, но полно раскрывающий её.
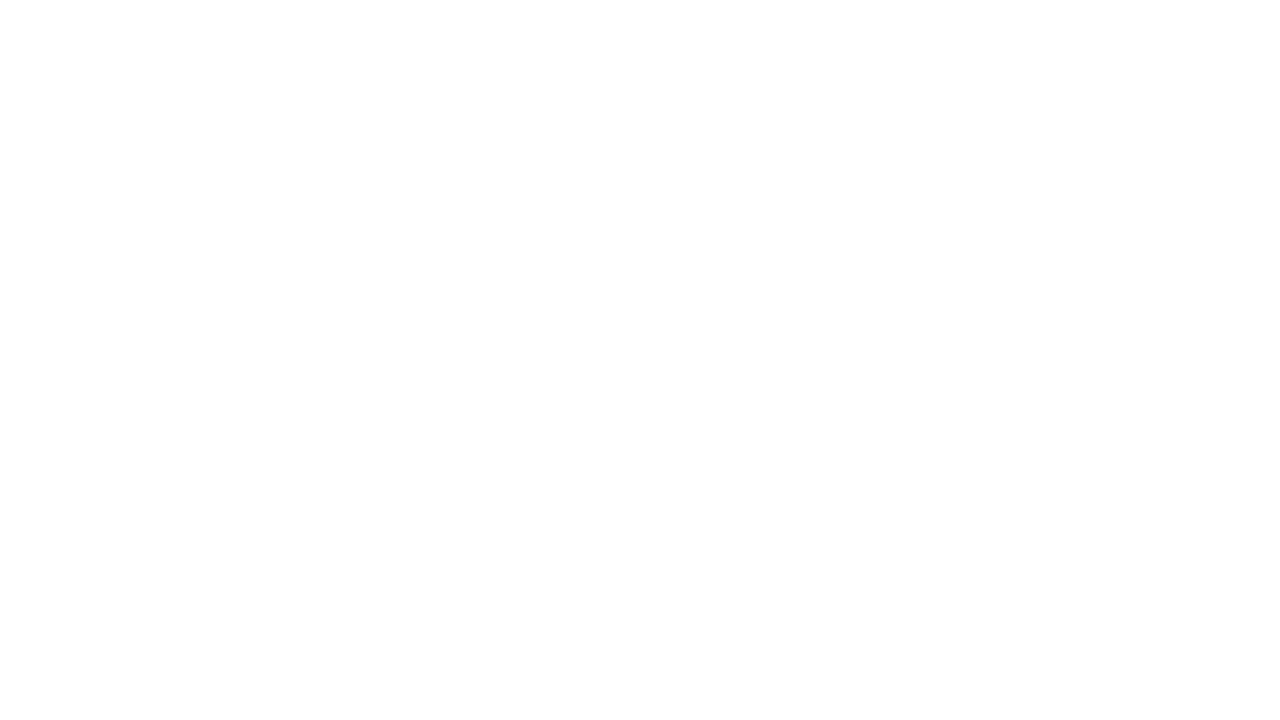
Кадр из фильма «Елена», автор Ярослава Комиссарова
Почему кладбище? Как ты пришла к этой идее?
В работе было два слоя - образ поэтессы (наше представление), и закадровый голос, читающий ее дневник. Нужен был видеоряд, завершающий композицию, но не иллюстрирующий, а создающий еще один слой. Желательно - открытый вопрос, который невольно появляется после соприкосновения образа и текста. Без этого контраста получилась бы манифестация, возможно - укор, с ним - поэзия.
У кладбища своя история, оно помогает в работе. Могила Гуро была утрачена, но факт смешения с ландшафтом «кажется выражением её загробной воли. При жизни она стремилась к полному растворению в природе» (А. Секисов «Зоны отдыха»). Камера не находит завершающую точку, лишь долго вглядывается в каждый кадр.
Или видео ритм от снежного покрова к первоцветам, - усиливает слово.
Да и само физическое действие - съемки в один день, что также о доверии месту и со-творчество, а значит и в этом отражение мировоззрения Елены.
Поиск голоса - какая была задача?
В дневниках Гуро встречается досада, что ее не всегда слышали, что голос, свой, особенный, у нее есть. Поэтому было важно записать чтеца. Была задумка включить взрослый, мудрый тембр, тем самым преломить время, показать условность возраста.
Но в итоговую версию лег голос ровесницы.
В работе было два слоя - образ поэтессы (наше представление), и закадровый голос, читающий ее дневник. Нужен был видеоряд, завершающий композицию, но не иллюстрирующий, а создающий еще один слой. Желательно - открытый вопрос, который невольно появляется после соприкосновения образа и текста. Без этого контраста получилась бы манифестация, возможно - укор, с ним - поэзия.
У кладбища своя история, оно помогает в работе. Могила Гуро была утрачена, но факт смешения с ландшафтом «кажется выражением её загробной воли. При жизни она стремилась к полному растворению в природе» (А. Секисов «Зоны отдыха»). Камера не находит завершающую точку, лишь долго вглядывается в каждый кадр.
Или видео ритм от снежного покрова к первоцветам, - усиливает слово.
Да и само физическое действие - съемки в один день, что также о доверии месту и со-творчество, а значит и в этом отражение мировоззрения Елены.
Поиск голоса - какая была задача?
В дневниках Гуро встречается досада, что ее не всегда слышали, что голос, свой, особенный, у нее есть. Поэтому было важно записать чтеца. Была задумка включить взрослый, мудрый тембр, тем самым преломить время, показать условность возраста.
Но в итоговую версию лег голос ровесницы.
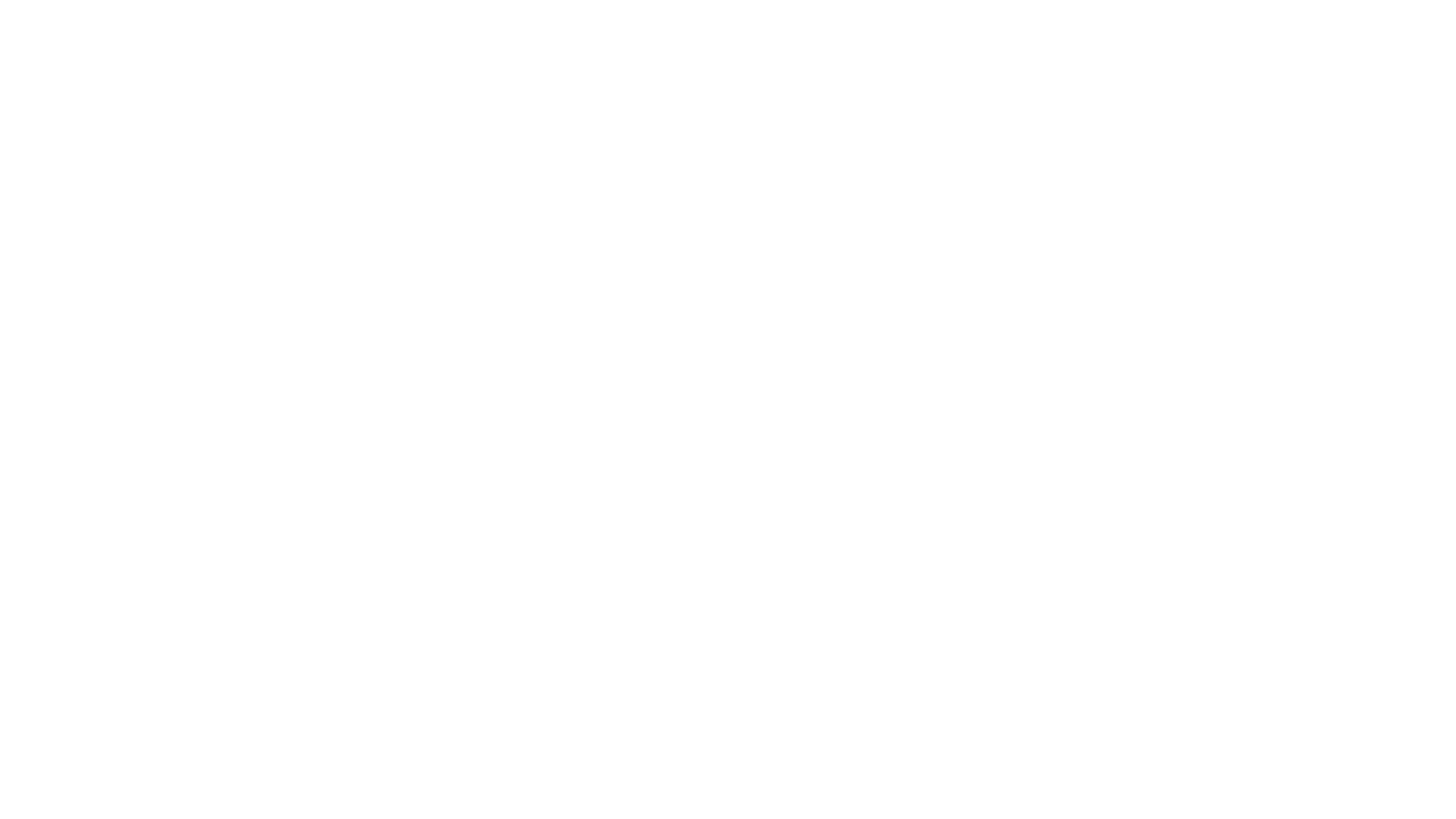
Кадр из фильма «Елена», автор Ярослава Комиссарова
Визуально это сильно отличается от других работ: здесь минимум твоего присутствия как художника, фактически только в выборе кадров, кладбище осталось как есть. Чем-то напомнило проект «На памяти было» - ты привнесла своё видение, а потом убрала его и вернула вещи такими же как они были. Почему в фильме ты остановилась фактически на фиксации пространства и не стала как-то преобразовывать его?
Текст очень много на себя берет. Он заполняет, ему требуется воздух. Статика визуального, условная простота, и ровный голос чтеца оставляют достаточно пространства и для него, и для зрителя.
У меня возникло ощущение, что со временем в твоих работах стало больше реальности, она как будто прорастает сквозь твоё творчество, становится более видимым. Даже инсталляции в домах не настолько документальны. Верно ли мое ощущение? Почему?
Да просто что такое искусство? Посаженное дерево не меньший перформативный акт, разрушенная стена - памятник, пустое поле - критика, а тишина - любовь.
Текст очень много на себя берет. Он заполняет, ему требуется воздух. Статика визуального, условная простота, и ровный голос чтеца оставляют достаточно пространства и для него, и для зрителя.
У меня возникло ощущение, что со временем в твоих работах стало больше реальности, она как будто прорастает сквозь твоё творчество, становится более видимым. Даже инсталляции в домах не настолько документальны. Верно ли мое ощущение? Почему?
Да просто что такое искусство? Посаженное дерево не меньший перформативный акт, разрушенная стена - памятник, пустое поле - критика, а тишина - любовь.
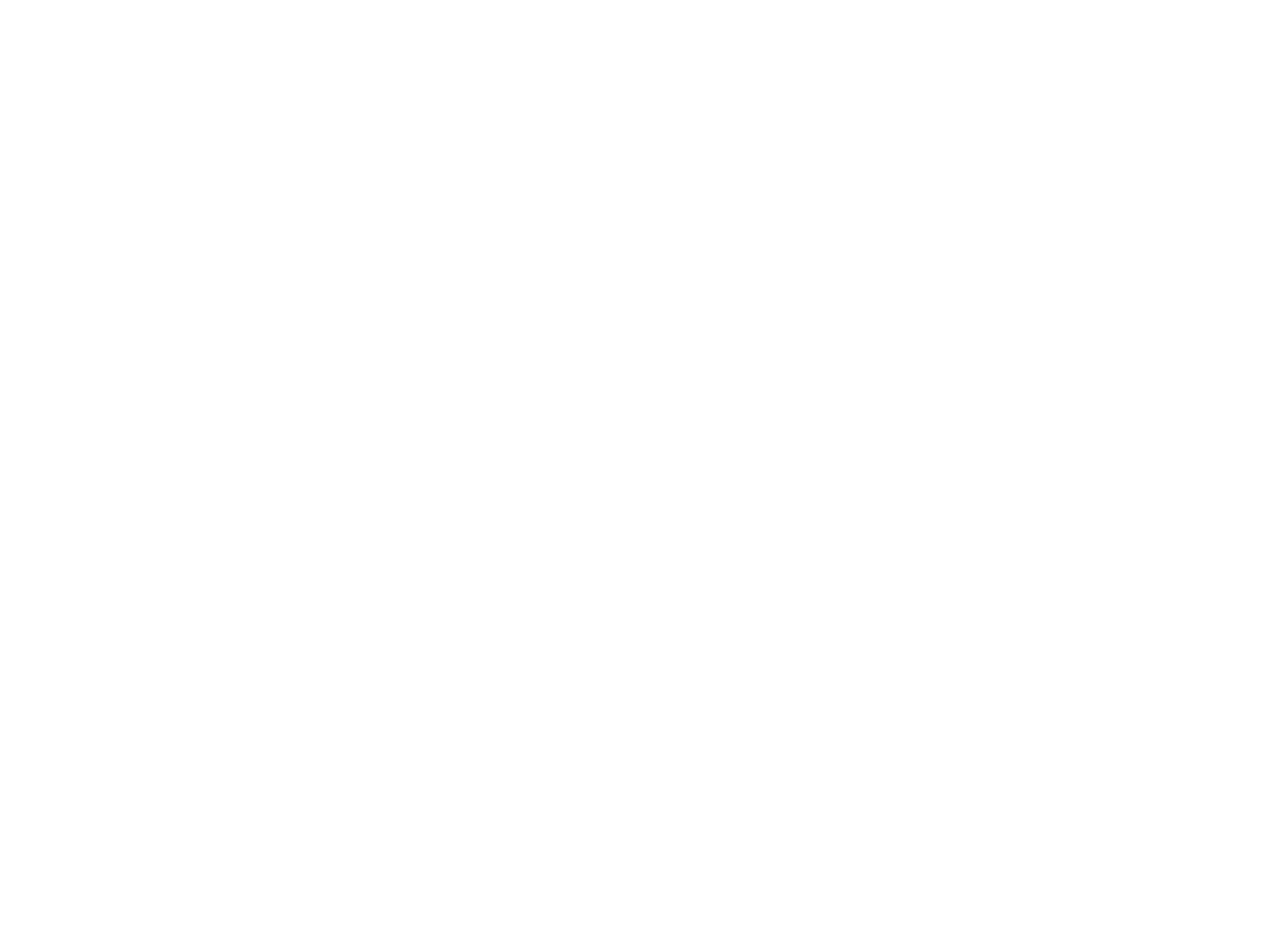
Саминский погост, птицы с биологического плаката